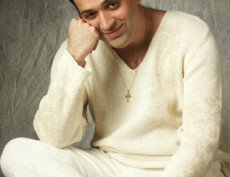— Расскажите, как вы выбрали «Семена Котко» — редкую тогда вещь в нашем оперном театре.
— Выбирал Мариинский театр, а точнее Валерий Гергиев. Мной же изначально двигало желание реабилитации этого произведения. Все знали, что оно замечательное, Прокофьева спасать не надо — для меня это один из самых великих оперных композиторов. Но советская тема несколько компрометировала «Семена Котко», потому что идеология уже была осмеяна, патриотические чувства вызывали кривые ухмылки, тем более что пятый акт оперы был написан в гимнической манере — этакий триумф рабочего и колхозницы. Сначала опера увидела свет в Мариинском театре в концертном исполнении. Было лето, в антракте я заметил, как из театра выходит один уважаемый мной композитор. Я спросил его: «Ты куда?» «Все, — ответил он, — музыка закончилась, дальше идет политика, а она меня не интересует». Это меня так задело, что захотелось сделать этот — как бы политический — акт главным и ударным.
— Как вы этого режиссерски добились?
Тогда вместе с художником Семеном Пастухом мы придумали этот образ — астероида под названием Россия, который мчится в открытом космосе без руля и без ветрил. Навстречу чему — непонятно
— Во-первых, мы играем без единой купюры. Кстати, по этому произведению не было удачных спектаклей — был товстоноговский в Кировском театре, но Георгий Александрович нашел в себе силы сказать, что ничего в этом не понимает, и ушел. Более удачной была постановка в Большом театре: Покровский ставил с молодой роскошной Синявской, которая бегала в башмаках, но все по тому же селу. Мне захотелось рассказать историю шире — про Россию. Тогда вместе с художником Семеном Пастухом мы придумали этот образ — астероида под названием Россия, который мчится в открытом космосе без руля и без ветрил. Навстречу чему — непонятно.
Но нужна была идея, которая связала бы все эти акты с самым сильным, третьим, в котором происходит сцена нашествия. Я не мог отдать эту великую музыку какому-нибудь одному войску: ведь нашу землю топтали и черносотенцы, и немцы, и красноармейцы, и белогвардейцы.
В финале оперы есть ключевой момент, когда Семен узнает, что его возлюбленную силой выдают замуж. Он бежит в село и, увидев их уже у алтаря… бросает в церковь гранату! Это авторская ремарка. Я подумал, если русский православный человек может бросить в церковь гранату, то это не человек, а некий продукт, человеческая сущность, наподобие китайцев-хунвейбинов, которые уничтожали памятники культуры и отрубали пальцы пианистам. Люди в единой форме и единой идеологии. По христианским мотивам этого не может быть. В этот момент музыка, которая казалась только политичной, стала обобщением всего спектакля.
— А сегодня вы бы взялись за этот сюжет?
— Я не ставлю сюжеты, я ставлю музыку. Если она меня захлестнула, ударила в сердце, мне интересно. И тогда родится новый, мой сюжет — такой как в финале «Семена Котко», где рассеивался дым от взрыва и зрители видели огромное количество людей в одинаковой одежде и лысую голову диктатора. Начиналась новая история России…
— То есть ваша режиссура часто идет поперек либретто?
— Для меня либретто — повод для написания композитором музыки. Существует музыкальная драматургия, и она иногда не совпадает с литературным первоисточником. Когда начинают ставить «Евгения Онегина» по тексту или пытаются делать это по Пушкину, начинаются проблемы, потому что все равно Чайковский берет свое.
Либретто в случае с «Семеном Котко» было поводом для размышления: о времени, о языке — ведь опера написана на суржике, и мне предлагали перевести на современный русский язык, чтобы понимали. «Не надо переводить — так написано!» Предлагали делать купюры, потому что есть длинноты, гиблые места в структуре. «Не надо — так написано!» Когда я потом читал про «гениальный финал» — как, мол, это все ударно и современно у Прокофьева, — мне было очень радостно, потому что у великого композитора не может быть промашек. Наверное, партитура ждала времени перемен — а у меня в 90-е годы руки уже были развязаны, я мог на эту тему говорить и очень личностно высказался.
— Как меняется эстетика вашего театра за эти годы?
— Критики для удобства пытаются навесить на режиссеров ярлыки — одному, как Мите Чернякову, они даруют право на модерн, кого-то записывают в консерваторы. На меня тоже пытались что-то навесить, но я считаю, что режиссер должен быть непредсказуем. Сегодня я такой, какое сегодня. Только принцип подхода к драматургии остается тот же. Когда спрашивают, для кого вы ставите спектакли, я, конечно, кокетничаю, говоря, что для себя, но в этом есть и доля истины, потому что мне важно высказаться, вступить в полемику, будь то «Борис Годунов», «Князь Игорь», «Семен Котко» или «Мазепа».
Я подумал, если русский православный человек может бросить в церковь гранату, то это не человек, а некий продукт, человеческая сущность, наподобие китайцев-хунвейбинов, которые уничтожали памятники культуры и отрубали пальцы пианистам. Люди в единой форме и единой идеологии
— Тогда «Семен Котко» мощно прозвучал — это с чем связано, как вы сегодня думаете?
— Почему было такое общественное единодушие? Про него мало знали. Сейчас же много знатоков, которые знают, как ставить «Евгения Онегина» или «Пиковую даму» — они отрицают или восторгаются еще до того, как пришли на спектакль. Тогда же этот «Семен Котко» был для всех абсолютно чистый лист. И поскольку высказывание было драйвовое, острое, это, конечно, захватывало. Особенно в финале-перевертыше, когда казалось, что пьеса уже разыграна, а мы показывали, как она будет развиваться дальше. Вот тогда и происходило понимание Прокофьева: он потому так ходульно, примитивно и плакатно писал последний акт, что хотел показать весь ужас этого строя. Хотелось бы еще раз вернуться к этому сочинению. Я люблю ставить одно и то же произведение по-разному — главное, чтобы совпадали болевые точки.
Ведь режиссура — это не только умение поставить спектакль, это априори мы обязаны уметь. Это прежде всего понимание того, где ты ставишь, для кого и в какое время. Если я прихожу со своими новациями в Самару, в которой и так сложно жить и люди давно не видели света в конце туннеля, то я и ставлю спектакль-праздник — с ярким финалом, обнадеживающим зрителей. Самарский «Князь Игорь» был спектаклем-масленицей, спектаклем на воздухе, где даже наше мерзкое русское пьянство выглядело как некая удаль. А вот когда я ставил в Москве, у ворот Кремля, я высказал все, что я думаю на эту тему.
— А в чем сегодня, по-вашему, болевая точка?
— В людях, в человеческой психологии, в том, чем занимаются музыка и композитор. Я же не меняю идею и не делаю из негодяя положительного героя. Но есть негодяй омерзительный, а есть милый, которого мы сегодня часто встречаем, — стильный, улыбчивый, радушный и в результате более страшный. И потом это классика — Чехова будут ставить тысячи лет, его можно трактовать. Оперу же трактовать необходимо! Ибо только в этом случае появляется нюанс, нужная интонация. Другое дело — в наше время возможно ставить один и тот же спектакль на материале разных опер. Одни и те же мизансцены и образы в спектаклях-клонах.
— А как выражать современность в опере?
— Современность — это не только генеральские мундиры, бомжи и менты. Я ставил «Князя Игоря» в «Новой опере», очень хотел сделать современный спектакль, но одел его в исторические костюмы и сценографию. Правда, я осуществил свою давнишнюю мечту и поставил «Половецкие пляски» не как балетную сцену, а как драматический поединок. Как вакханалию, роскошь, пир, дастархан с обнаженными телами, подарками, которыми заваливал хан Кончак несчастного, подвыпившего Игоря, в конце оказавшегося в татарской шапке и халате отплясывающим перед улюлюкающей толпой, все сказали — да ведь это же Ельцин. Я это и имел в виду. Сейчас очень часто одевают спектакли в современные тряпки. Я, конечно, понимаю, что так проще и дешевле. А что мне эти джинсы? Поставить в исторических костюмах очень дорого, репетировать сложно — подойди-ка к женщине, если у нее кринолин в пять метров. Внешние признаки еще не делают вещь актуальной. Не так часто наблюдаешь продуманное взаимоотношение частей и целого, идеи и стилистики. Очень легко перепутать моцартовского «Дон Жуана» с вагнеровским «Золотом Рейна»: серые стены, пиджаки, дипломаты, там и там доллары.
Есть негодяй омерзительный, а есть милый, которого мы сегодня часто встречаем, — стильный, улыбчивый, радушный и в результате более страшный
— У вашего театра такое роскошное пространство. А вам важно, чтобы театр был красивым?
— Мы играли на разных площадках, но я считаю, что театр всегда — праздник, и люди должны это ощущать, вырываясь из быта. 15 лет я реставрирую свой театр только для того, чтобы сохранить его. Он должен был исчезнуть с лица земли, я подхватил его в самом губительном состоянии: здесь была туберкулезная клиника, все было замазано масляной краской и была полная разруха. Никому он был не нужен, никто не хотел взваливать на себя такую ношу. На сегодняшний день это, безусловно, один из самых красивых камерных театров Европы.
— Как вы к «Маске» относитесь?
— «Маска» — живой организм, я изначально приветствую эту историю, потому что она крайне необходима. Но поскольку организм живой, то переживал разные моменты: у нас была любовь, было непонимание, потом отторжение. «Маска» испытывала на себе разные степени искушения, лукавства. В какой-то момент оторвалась от публики. Я всю жизнь работаю для людей и дорожу их любовью, хотя я прекрасно понимаю, что мои режиссерские амбиции иногда не совпадают с их пожеланиями. На одной из последних «Масок» я показывал «Любовный напиток» «Новой оперы» и из шести номинаций спектакль не получил ничего. Председатель жюри, — кстати, питерский композитор — с легкой улыбочкой на челе просил меня не огорчаться: «Вас же любит публика, к вам не попасть, но это не масочный спектакль». Тогда я понял, что с такой «Маской» мне не интересно. Я же не скоморох, который торгует своим товаром. Мои спектакли — это моя жизнь, оценить которую без понимания творца, его пути невозможно. Тем не менее я верю в мое и российское масочное будущее!
А «Котко» был яркой историей еще и потому, что в Москве я остался один и у меня в руках было шесть «Масок», которые я должен был дотащить до поезда. Они очень тяжелые, рук не хватало, и я проклинал эту «Маску» как мог. Вот это было сильное впечатление.