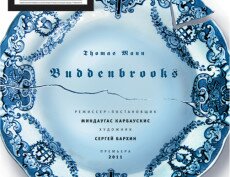— Как случилось, что возник спектакль «Пластилин»?
— То, что он вышел, — это подвиг Алексея Николаевича Казанцева, который на свои деньги, на те деньги, которые занимал, содержал Центр драматургии и режиссуры. Тогда еще не было такой коммерциализации, как сейчас, и можно было за небольшие деньги арендовать площадку. Он договорился с Никитой Высоцким, и нас пускали играть в Музей Высоцкого, а репетировали мы в каких-то ДК. Мы работали за три копейки, ждали их месяцами. Так что все это было не для денег, а чтобы сделать что-то невозможное. Хотя сейчас мне кажется, что это был совсем «вегетарианский» спектакль…
— А почему «Пластилин» — «вегетарианский» спектакль?
— Я сегодня не вижу в этом спектакле ничего провокационного, ничего невозможного или ужасного. Я, скорее, вижу ужасное и провокационное в жизни, в новостях, на телевидении. Возможно, «Пластилин» так радикально воспринимался из-за контекста — по сравнению с тем, что было в театре в то время. Он был сделан довольно традиционно, но говорил все-таки на другом театральном и драматургическом языке. А вокруг все было иным: театр был совсем советским, зрители за девяностые годы либо разучились ходить в театр, либо ходили на то, к чему привыкли, еще не случилось обновления трупп. Это сейчас в театры берут молодых чуть ли не курсами, а тогда было не пробиться. А это ведь было не так давно, лет пятнадцать назад. Все артисты, которые играли в «Пластилине», были не из театральных трупп: и Панков, и Хаев, и Кузичев.
Я всегда считал, что современную пьесу надо ставить как классическую, а классическую — как современную
— Да, «Пластилин» впечатлял именно языком спектакля, не темой даже…Пьеса реалистична, спектакль — нет.
— Я всегда считал, что современную пьесу надо ставить как классическую, а классическую — как современную. В те годы новая пьеса продолжала доперестроечную традицию, традицию Галина, Володина, Вампилова, Петрушевской, Садур. Непривычные, часто неприятные, герои-одиночки в жесткой ситуации. Чтобы сделать это интересно в театре, надо было придумать театральный язык. Дальше мы разошлись — «новая драма» увлеклась манифестацией языка драматургического, а я увлекся манифестацией языка сценического. Понятно, что это неразрывно связано, но мне интересней заниматься разработкой театрального языка. А «новой драме» стали важны не артисты, язык театра, партитура спектакля — а важно просто прочитать пьесу.
— Как вы выбираете материал для постановки?
— Важно, насколько пьеса, или литература, или тема спектакля связана со мной, насколько трогает лично, тематически, лексически, эмоционально. Насколько позволяет развить язык, насколько неизвестно, как ее делать. Сейчас, например, я ставлю пьесу Майенбурга «Мученик», которую перевели специально для нас. Когда я прочитал ее, я понял, что это именно то, чего я давно ждал. Меня это волнует, мне захотелось сделать спектакль, хотя с пьесами в последнее время предпочитаю не работать, все больше проза или поэзия.
— А спектакль «Лес» — это политическое высказывание или, скорее, диалог с театральной традицией, с Мейерхольдом?
— Это, скорее, было решение творческой задачи, которую я поставил сам себе, — как сегодня поставить русскую классику, не меняя в ней ни слова. Когда мы делали «Мертвые души», артисты иногда говорили про какие-то эпизоды — ну, сейчас это уже совсем непонятно, надо убрать. Но я говорил — нет, давайте придумаем, как это сегодня можно сказать, сыграть. То есть мы все архаичные лексемы, все идиомы сохранили. Когда ставил «Лес», была задача поставить Островского, не переписывая, не деконструируя. Я только сократил нескольких персонажей. В спектакле действительно есть несколько «приветов» Мейерхольду, но, в принципе, это почти классический театр. Перенос во времени — сейчас вещь настолько обычная, что к достижениям это невозможно отнести. Другое дело, что, когда делают перенос, часто начинают лезть швы. Задача режиссера — найти такой способ переноса, чтобы это было естественно, чтоб не прессовать материал, подгоняя под концепцию. Я переносил действие в условные 60-е: с советским шиком, с зарубежной эстрадой. Это дало мне возможность поставить Островского так, как он написан, не меняя причинно-следственных связей.
— А почему нельзя менять ни слова? Вы против адаптаций?
— Я просто считаю, что есть тексты, с которыми так поступать не надо по причине их уникальности, есть тексты, которые имеют сакральное звучание. Они не просто написаны авторами, а как бы «продиктованы им свыше» и стали частью их судьбы и частью судьбы страны, культуры. Не сочтите меня сумасшедшим, но действительно есть магические тексты. Например, «Демон» Лермонтова, его же «Маскарад». Текст «Мертвых душ» — абсолютно сакральный текст. Там в звукосочетаниях заложены некие мантры, которые связаны с языком, с историей страны, с историей театра, с людьми, которые это читали и играли. Я в это очень верю и стараюсь это не терять при перенесении на сцену. Но есть авторы, которые, наоборот, легко поддаются адаптации. Например, Гончаров. Мне кажется, он открыт для диалога с современностью. Я сейчас делал инсценировку «Обыкновенной истории», и мне казалось, что проблем нет. А с Салтыковым так нельзя, там каждое слово — ценность, намытая жемчужина. Нельзя трогать, иначе рухнет архитектура произведения.
За эти двадцать лет театр и история страны почти ни разу не пересекались, один только раз — в случае с «Норд-Остом»
— Как реальность влияет на театр в России?
— За эти двадцать лет театр и история страны почти ни разу не пересекались, один только раз — в случае с «Норд-Остом». А так театр шел своим путем: развлекал, выживал, думал о вечном и прекрасном. А страна — своим: выживала, воровала, думала о сиюминутном. Только в последние годы театр стал слышать происходящее в стране, начал рефлексировать и реагировать. Соответственно, стал подвергаться атаке.
— Почему так происходит?
— От бескультурья, от упадка знаний. Ну как объяснить традицию сносить памятники? Людям кажется, что памятник — не знак истории, не факт искусства, а символ чего-то важного, ненавистного. Это признак наивного первобытного сознания: буйвол, нарисованный на стене, это и есть буйвол. И если в него кидать копья или камлать, то можно будет убить его на охоте. Вот в России сейчас отношение к искусству примерно такое же. Если режиссер поставил спектакль про мерзавцев, значит, он сам мерзавец. Если артист играет убийцу, значит, он сам нехороший человек. Есть люди, которые относятся к классике, литературе XIX и отчасти XX века, как к своей территории, к своей делянке, к своему наделу земли. Если я по‑своему, непривычным им образом ставлю эту самую классику, то меня надо убить как агрессора и этим освободить классику от посягательств. Вот такая логика. Мне кажется, что дело еще серьезнее: у нас происходит упадок гуманитарных технологий. Работает только психология дворовой шпаны, психология силовиков, спецслужб, помноженная на примитивное сознание, оперирующее терминами «свой» — «чужой». По их логике что можно сделать с человеком? Человека можно завербовать, заставить, убить. Нет вариантов — просвещать, любить, учить. Мы двадцать лет жили без пропаганды, она считалась чем-то постыдным, а сейчас развернулась в полный рост. Скоро возникнет министерство правды. В рамках сознания силовиков пропаганда — это единственный вариант общения с народом. А культура и театр должны быть только частью пропаганды. Если они не выполняют эту функцию, то не нужны. Все у них просто.
— А что происходит внутри профессионального сообщества?
— Марина Давыдова недавно точно написала, что государству необязательно вмешиваться в дела театра, театральные люди сами съедят друг друга. Высокий градус внутрицеховой ненависти, зависть к чужому успеху действуют вернее запретительных законов. Например, наши театральные «силовики» часто говорят, что надоел политический театр… Или постдраматический. Как, когда, где он успел надоесть? Вранье это и сигналы власти — «я за вас, я тоже этих экспериментаторов ненавижу, ату их!». Очень агрессивное, консервативное сообщество, построенное на маленьком бессмысленном воровстве, на инерции, на зависти, на желании находиться вечно в своих синекурах.
— Театр должен слышать время?
— Несовременного театра не бывает. Тогда это не театр, а музей. Театр Фоменко, например, в чем-то для меня архаичен, но при этом совершенно прекрасен, потому что здесь и сейчас учит меня благородству и влюбленности в поэзию. Иногда театр — это чистая красота, чистая музыка, иногда театр — это настоящая романтика. Он разным должен быть, не только политическим. Он может быть мелодраматическим, может быть даже старомодным. Спектакль «Дальше — тишина…» Эфроса — это по форме абсолютно старомодный театр, но там выдающиеся актерские работы, и он смотрится пронзительно и сегодня. Я видел в Лондоне очень традиционный спектакль «В ожидании Годо», где играли Иэн МакКеллен и Патрик Стюарт, два пожилых артиста. Но они, эти старики, играют так, что у тебя, у молодого, взрывается мозг, и тебе плевать, старомодный это театр или нет. Это современный театр про мастерство. А если нет ни того, ни другого, ни третьего, то начинают говорить о духовности.
За эти двадцать лет театр не отражал время, но были хорошие спектакли. Вообще, российский театр — хороший театр, в его эскапизме есть и плюсы. Есть позиция — «не хочу смотреть про плохое, про грязь; хочу Чехова, хочу, чтобы сидели красивые люди и говорили знакомые фразы»… Я вот сейчас думаю — а почему бы и нет? Просто это должно быть хорошо сделано, а такого хорошо сделанного привычного театра крайне мало.
Работает только психология дворовой шпаны, психология силовиков, спецслужб, помноженная на примитивное сознание, оперирующее терминами «свой» — «чужой»
— Когда вы выбираете пьесу для постановки, вы делаете это по-другому, чем раньше, когда были приглашенным режиссером?
— По-другому, разумеется. У нас в «Гоголь-центре» за год уже сформировалась своя аудитория. В основном это люди двадцати-тридцати лет, плюс-минус, есть совсем молодые, которые приходят в театр в первый раз и, если им нравится, остаются. Активный, умный, интеллигентный зритель.
— «Гоголь-центр» сейчас такой, каким вы его задумывали?
— Время скорректировало планы. Поначалу я думал делать театр экстремальных форм. Может же быть в Москве хотя бы одно место, где происходит все, что обычно нельзя? Но так получилось, что стала приходить аудитория, которая хочет разного, в том числе нового романтизма. Пытаемся сочетать — в репертуаре есть мелодраматическая «Митина любовь», парадоксальная «Елка у Ивановых», вполне традиционный, но решенный через приемы современного театра «Гамлет» и, допустим, спектакли кинотрилогии, где, конечно, присутствует жесткач. К нам приходит нетеатральная публика — это ценно, потому что театральной публики в Москве два процента — и становится театральной. К нам ходят те, кто в театр обычно не ходит, но они, эти молодые зрители, чувствуют, что это их место, что им здесь интересно — идеологически, визуально, эстетически.
— Что для вас ответственность художника?
— Сегодня, когда про это начинают говорить, особенно на встречах с властью, я слышу за этим спекуляции и желание подмять под себя потоки бюджетных денег. Задача театра, как и любого человека, — помогать людям. Спектакль нужен, если он помогает разобраться в чем-то важном, внутреннем, личном. Я за сильный театр, за горячительный напиток, который опьяняет, возбуждает. Спектакль производит в тебе работу, и, разумеется, это надо делать с чистыми руками и с чистыми намерениями. У нас всегда есть намерения изменить человека в лучшую сторону, и в этом смысле мы боремся с государством, с ТВ. У ТВ задача — ухудшить породу человека, ужесточить нравы, а задача театра — смягчить нравы.
— Разве театр меняет человека?
— Да, меняет. Хотя бы на время спектакля. И на час, пока человек добирается до дома, заходит в подъезд, в квартиру, снимает обувь, переодевается, заходит в комнату, включает телевизор… И тут театр заканчивается, начнется промывание мозгов, пропаганда