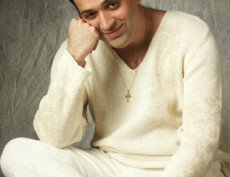— Давно, на заре «Маски», «Провинциальные танцы» привезли в Москву «Свадебку». Сейчас у вас новый опыт со Стравинским. Расскажите, как вы работали в Большом театре, на чужой территории?
— На самом деле территория оказалась для меня не совсем чужой. Проект возник неожиданно, поэтому не было времени плотно изучить артистов Большого и сделать спектакль, исходя из их индивидуальных особенностей. В процессе кастинга было принято решение объединить танцовщиков Большого и танцовщиков театра «Провинциальные танцы». Внезапность проекта обернулась честной спонтанностью. Это тоже хорошо: не нужно было долго думать, а спонтанность искреннее, чем долгие подготовки, я в этом уверена.
— А можете про спонтанность подробнее — почему это важно в танце?
С одной стороны, опыт — всегда хорошо, с другой, опыт — это определенные привычки. Когда с течением времени ты узнаешь законы, то они начинают тебя ограничивать. Когда перед тобой белый лист, ты не боишься ничего нарушить
— В процессе импровизации часто случается спонтанное действие, и это освобождает от паттернов, от привычного, в этом есть проблеск. Это важно не только для танцовщика, но для любого творческого человека. С одной стороны, опыт — всегда хорошо, с другой, опыт — это определенные привычки. Когда с течением времени ты узнаешь законы, то они начинают тебя ограничивать. Когда перед тобой белый лист, ты не боишься ничего нарушить.
— И в ситуации Большого театра вы пригласили своих танцовщиков, чтобы…
— Предлагаемые танцовщики не настолько открыты, мобильны и гибки в своем телесном, эмоциональном и ментальном состоянии, а времени для поиска и изучения незнакомого настолько нет, что, возможно, лучше работать, не находя специальных форм для них, а через проникновение. Обычно как бывает: кастинг, лабораторная работа, потом период, когда ты все это осваиваешь, перевариваешь информацию и начинаешь делать что-то специально для этих людей. Здесь нужно было сразу делать все. Даже в создании сценографии и костюмов мы с Шишкиным (Александр Шишкин, автор сценографии «Весны священной». — Прим. ред.) с первой встречи стояли перед необходимостью найти идею и придумать историю, сделать выбор предметов и символов для раскрытия замысла.
— Как возник в «Весне» Александр Шишкин — художник, больше работающий в драматическом театре?
— С Шишкиным у нас были пересечения 10-летней давности, и он меня очень интересовал как личность. И предварительное общение, в ходе которого идет проброс идей, и его очень рациональная мужская составляющая, и то, что он работает в основном в драматическом театре, — все это мне это близко и нужно, потому что меня не интересует абстрактный эстетский танец. Но мне интересно, когда в процессе спектакля происходит осознание танцовщиком какого-либо момента и его, танцовщика, трансформация. Насколько он может рискнуть и перейти собственные границы.
Музыка Стравинского изначально наполнена драматизмом. Пропустить это никак нельзя. В «Свадебке» было то же самое, и мне там наличие драматургии очень помогало. Я воспользовалась тогда другой историей — не той, что у Стравинского, связанной с просто свадебным ритуалом, а взяла конкретный обряд северных русских народов.
В «Весне» я изначально решила, что не буду менять структуру музыкального материала. У Стравинского музыка идет частями и каждая имеет свое название: «Целование земли», «Танец старейшин», «Танец избранницы» и так далее. Сохраняя ритуальность музыки, я хотела создать историю, найти идею, которая бы не повторяла замыслы Пины Бауш или Вацлава Нижинского. В силу воздействия двух этих спектаклей я никогда в сторону «Весны» не смотрела, потому что в них было сказано все.
Нужно было оставить музыкальную драматургию, но сделать свою историю. И мы с Шишкиным за два дня это все придумали. Я сидела у него в мастерской, рылась в эскизах, потом мы вместе отсматривали картинки, искали, как воплотить идею избрания через идею выравнивания. Там есть одна сцена, когда девочки встают на разное количество досочек, чтобы быть одного роста (ты не можешь выпасть из общего строя — это будет стоить тебе жизни). Я не знаю, насколько зритель все это читает; кто-то из поклонников современной хореографии говорил, что слишком много предметов. Но эти предметы символичны и событийны.
Меня не интересует абстрактный эстетский танец. Но мне интересно, когда в процессе спектакля происходит осознание танцовщиком какого-либо момента и его, танцовщика, трансформация. Насколько он может рискнуть и перейти собственные границы
— Вы начали говорить про технологию работы с танцовщиками. Каким был этот процесс?
— Поскольку на поиски времени не было, решено было, что я работаю в своей стилистике — стилистике танцевального театра. И для того, чтобы эта стилистика случилась в качестве движения и присутствия на сцене, мы использовали физический театр. Не игру и изображение, как это принято даже в драмбалетах, а именно физическую составляющую. Танцовщикам надо было идти на реальное преодоление. И для того, чтобы они как можно скорее поняли идею того, как правильно существовать, необходимо было иметь не только человека снаружи, который дает им эту информацию, но и людей внутри, которые естественным путем так существуют. Так возникла идея сделать проект более «проникновенным» — занять в спектакле танцовщиков театра «Провинциальные танцы» наряду с артистами Большого.
— А каков вообще опыт работы в Большом?
— Работать в Большом было очень комфортно. Во время постановки для нас создали мир, обособленный от регулярной деятельности театра. Организационно театр вложился очень хорошо. Перед премьерой мы не успевали по свету, по машинерии, чтобы все вовремя текло, падало и сыпалось — так вызывали ночные, все продвигали, делали. Мне нужен был рис — прямо на репетиции. А это государственное предприятие, нужно что-то там выписать, пойти купить, и даже при хорошем раскладе рис будет только завтра. Я прихожу в перерыве и вижу, что все технические службы собрались в кружок и накрутили из туалетной бумаги полную пятилитровую банку «риса». Мне хотелось просто поклониться.
— Если вернуться в Екатеринбург — статус «Провинциальных танцев» изменился как-то за это время?
— Он изменился. Мы четвертый год находимся в статусе муниципального театра и в составе Екатеринбургского театра современной хореографии, где есть театр «Провинциальные танцы» и школа современного танца. Раз в неделю нам принадлежала сцена нашего ТЮЗа. Но два года назад его закрыли на глобальную реконструкцию. И если раньше мы арендовали площадку, то теперь Управление культуры обязывает городские театры предоставлять нам сцены. Сейчас есть хорошая репетиционная база, это очень помогает, регулярность тренингов держит компанию в хорошем состоянии — мы за последний год выпустили три премьеры, все три с приглашенными хореографами, и это тоже хорошо.
— Меняет ли время людей и театр? Вас саму время меняет?
— Мы Чехова когда начинаем понимать и слышать? Когда получили опыт и дожили до возраста его героев. В детстве нет страхов: пока ты не обжегся, ты не знаешь, что такое горячо. Пока ты не упал, ты вообще не предполагаешь, что твое тело можно сломать. Опыт набора событий нас, с одной стороны, обогащает, хотя не факт, что мы сделаем правильные выводы, а с другой — формирует такое количество страхов, что принимать решения становится гораздо сложнее. И к 30–40 годам все начинают возвращаться к Достоевскому, Чехову, потому что первое прохождение мимо было не вовремя.
— Про что вам сегодня хочется говорить через танец, через театр?
Мне нужен был рис — прямо на репетиции. А это государственное предприятие, нужно что-то там выписать, пойти купить, и даже при хорошем раскладе рис будет только завтра. Я прихожу в перерыве и вижу, что все технические службы собрались в кружок и накрутили из туалетной бумаги полную пятилитровую банку «риса». Мне хотелось просто поклониться
— Почему я говорю про правдивую спонтанность, которая наполнена чем-то истинным и сиюминутным? Потому что та же «Весна» не высосана из пальца. Когда возникла история и Паша (Павел Гершензон. — Прим. ред.) мне неделю звонил и просил принять решение, я говорила — я вот так не могу, вам же надо не просто сделать, а сделать! Большой театр — не площадка для рисков и экспериментов. Было понятно, что в такой короткий срок это возможно только за счет общего сверхусилия. И в спектакле эта тема есть — отсутствие и ограничение чего-либо в замкнутом пространстве. У меня есть детская мечта и идея, что нужно всем объединиться и сделать сверхусилие — и тогда получим то, что нам необходимо. И проект сложился как результат сверхусилия тех людей, которые собрались вокруг меня. Поэтому это чувство очень реально и правдиво. Так совпали мое внутреннее состояние и идея спектакля.
— Насколько публика должна быть готова все это считывать?
— Не знаю, ведь в основной массе публика Большого — все равно не та публика, которая связана с современным искусством. Я приехала на Пину Бауш (в рамках фестиваля Большого театра к столетию «Весны священной» Игоря Стравинского. — Прим. ред.), пришла в зал и была в той же одежде, что и в буклете сфотографирована, так случайно получилось. Со мной сидит пара — такие «фэшн». После спектакля они встают и говорят: «Вы знаете, мы сначала купили билеты, потому что не пропускаем премьеры в Большом. Посмотрели ваш спектакль и купили билеты на остальные три (три постановки «Весны священной» в рамках фестиваля «Век «Весны священной». — Прим. ред.), и нам очень нравится». Вот это был показательный момент: фэшн-люди, которые, может быть, ходят на выставки, но не знают, что такое современная хореография, получили такой опыт.