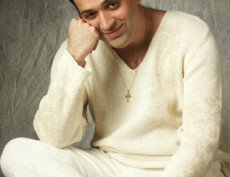— Как вы работаете с индивидуальностью артистов?
— Это ж легко сказать — да, я работаю с индивидуальностью. Не определив, что такое «индивидуальность» и что такое «работаю».
— Мысли человека, его эмоции, его природа, психофизика.
— Мысли человека — это небольшая загадка, ты просто смотришь на лицо человека и говоришь — это не будет хороший правитель, это очевидно, зачем они его выбирают? К сожалению, на это не тренируются люди. Пока не тренируются — будет то, что есть.
Все-таки искусство занимается тем, что останавливается. Ведь, чтобы увидеть лицо, нужно немножко замереть. Нужно, чтоб и он замер — а то он перед тобой мелькает, глаз моргает, кровь пульсирует, мозг работает. Нужно как-то между этим увидеть нечто постоянное, если оно есть, или хотя бы увидеть, что постоянного нет.
Весь Станиславский — в «не верю», все можно к этому свести. А как сделать, чтобы «верю?» Роза Сирота, у которой мы учились в ЛГИТМиКе, очень любила Немировича-Данченко, поскольку он очень подробно с зала все разбирал — второй план, зерно роли. Но когда Роза Абрамовна работала во МХАТе актрисой, она сказала: «Я никогда не знала, что так трудно быть актрисой». А уж я-то ее хорошо знаю, она человек искренний и честный. Она просто не имела возможности узнать вторую половину этого дела — кроме той, которую знает режиссер. Она показывала, но показывать — это не совсем то же, что и играть.
Все-таки искусство занимается тем, что останавливается. Ведь, чтобы увидеть лицо, нужно немножко замереть
— Как вам кажется, изменилось ли время и человек за это время?
— Можно сказать, что средняя личность, если мы определим, что это такое, или решим, что можно определить, меняется. Но я думаю, что человек вообще не меняется, и кажется, что это нехорошо, но, может, такой замысел, чтобы он долго не менялся? То есть мы не можем увидеть на коротком отрезке, чтобы он менялся.
Конечно, телевизор сильно все унифицирует. Человек ведь проявляется за счет того, какие у него мысли в голове. А какие мысли? Просто тексты, которые он повторяет про себя, может, там несколько действующих лиц и они друг с другом разговаривают. Но говорят эти действующие лица то, что им рассказали по телевизору, а это даже не Лев Толстой. Соответственно, какие тексты из телевизора, такие и личности. Но это ничего не значит, и я не думаю, что могу судить об этом.
Я увидел по телевизору, как на Украине какой-то человек лет за 70, крепкий, простой — такого в бане можно встретить — плачет. Я не помню, что он говорил: то ли памятник Ленину свалили, то ли еще что. Но плачет, и вот его только и жалко. А больше никого. С другой стороны — жалко его именно в этот момент. Потому что потом выяснится, что в другой момент это такая сволочь, что так ему и надо. Человек же не является человеком в полном смысле этого слова — он сейчас такой, потом такой. Только отдельные люди, у которых либо так сложилась ситуация, либо они совершали над собой специальное усилие, либо попали в какие-то условия и школы, где направленно пытались удержать внимание на том, чтобы быть цельным, могут сохранить себя.
— А театр может помогать сохранять себя или учить чему-то?
— В каком-то смысле человечество так и старалось, но нет гарантии, что правильно учат. Где учителя? Театр — теоретически может, но практически не является. Поскольку театр организован человеком, который совершенно не знает, что будет делать в следующую секунду. Хотя я специально занимаюсь тем, чтобы сориентироваться.
— Можете объяснить? Чем вы занимаетесь через театр, через делание спектаклей?
— Занимаюсь стабильностью сознания. Мне просто нравится стабилизировать свое сознание. Проснешься и понимаешь, что ты находишься в комнате, или выйдешь и видишь: вот дерево. А не думаешь, что эта сволочь мне сказала что-то на Украине. Думайте, пожалуйста, да только дерево-то тоже должно быть.
Мне просто нравится стабилизировать свое сознание. Проснешься и понимаешь, что ты находишься в комнате, или выйдешь и видишь: вот дерево. А не думаешь, что эта сволочь мне сказала что-то на Украине. Думайте, пожалуйста, да только дерево-то тоже должно быть
— Это такие мыслеформы, когда все связано: текст, процесс говорения, времяпровождение, пространство?
— Допустим, пространство — да, мы пользуемся этим термином. Но что за этим? Если это не определяется другими словами, тогда это просто непрерывный треп.
— Но вот для Михаила Чехова пространство — не треп?
— Я бы не стремился объяснять. Если Михаил Чехов предлагает то или иное упражнение, то его не надо объяснять, надо его делать. Само по себе объяснение не имеет никакого значения. Разговоры, а их, безусловно, приходится вести, нужны только для того, чтобы разбросанность внимания и полную бессознательность собрать, привести к одному знаменателю. То есть утихомирить мозг или хотя бы направить шум в одном направлении.
— У вас в спектаклях много музыки, а как вы ее «включаете»?
— Так она сама возникает. А не для того, чтобы ловко темп и ритм поддерживать.
Музыка может быть обусловлена бесчисленным количеством причин — она может звучать в голове у человека, и все, ее надо озвучить. Сначала звучит, а потом объясняют почему. А не наоборот. Наоборот — это и есть режиссура как мертвая конструкция.
— А ватники в спектаклях — это лагерный антураж?
— Ну, кто-то так написал, а другие с него переписали. Вон фотография висит на стене — это студенты 2-го курса Иркутского политехнического института. Они в ватниках, они зэка, что ли? Что, думаете, эту одежду специально для зоны делали? Это в зоне она такая, потому что удобная. И потом в зоне она не совсем такая. Телогрейки всегда продавались, были дешевые и удобные. Мой отец работал главным инженером громадного треста и на работу в телогрейке не ходил, потому что не принято было, но остальное время был в ней. Нормально.
— Но если и «зэка» — в этом нет ничего пренебрежительного.
— Конечно. Еще ведь и Галич опоэтизировал, а он в какой-то момент сильно повлиял на менталитет. Есть масса блатного фольклора, допустим, одесский. Мой дядька знал все одесские песни тех времен — городской фольклор. В этом же была какая-то свобода. Есть «Я люблю тебя, жизнь!» и подобные, — может, не очень плохие песни, но они захватывали только часть человеческого пространства, а у человека еще что-то есть.
— А что дает вам театр? Или что вообще актерство дает человеку?
— Многое всегда связано с детством, с юностью, когда, собственно, формируется личность в гурджиевском смысле — она вот это разучивает и считает, что это она и есть. Если человек об этом знает, то потом он от этого отстраняется. Собственно, актер может стать другой личностью, в гурджиевской терминологии личности и сущности. Это и есть то, что говорил Станиславский про предлагаемые обстоятельства. Что такое личность — это то, что он помнит: папу с мамой и все остальные события. Запись на носителе. Но туда же можно другую запись внести. Если вы можете поменять себя, предложил Станиславский, вы сразу обретаете свободу от себя. Актер так и должен. Если попадается такой актер, которого просто интересует, что он такое, значит, он этим и занимается — это и есть сфера искусства.
— То есть у артиста больше возможностей быть свободным, чем у обычного человека?
Если б вы были сусликом в поле, а там бы летал ястреб, вы все время были б на стреме — вот это и есть личность. Но вам говорят — никакого ястреба нет, не волнуйтесь, а есть люди, которые посягают на вашу свободу и хотят вам не дать бесплатно ездить на трамвае. Вы тогда думаете — да, действительно, и ваше внимание крутится внутри. Остальное вам обеспечено — трамваи ходят, ястреба отстрелят охотники, а вы перевариваете то, что вам сказали по телевизору. А если б вы были сусликом, вы б все время были на стреме. И были бы счастливы
— Конечно, он из-за этого только и хочет быть артистом. Когда он просто отдыхает от себя какое-то мгновение, потому что в принципе это почти не удается. А остальное — это артист обманывает, чтоб ему не мешали: я хочу сказать что-то, я хочу вместе со всеми… Но технически это осуществляется очень трудно — в пространстве наблюдения. Актер вышел, а в зале сидит еще один такой же — зритель. Этот со своим пространством, а тот — со своим, и должно возникнуть третье.
Если б вы были сусликом в поле, а там бы летал ястреб, вы все время были б на стреме — вот это и есть личность. Но вам говорят — никакого ястреба нет, не волнуйтесь, а есть люди, которые посягают на вашу свободу и хотят вам не дать бесплатно ездить на трамвае. Вы тогда думаете — да, действительно, и ваше внимание крутится внутри. Остальное вам обеспечено — трамваи ходят, ястреба отстрелят охотники, а вы перевариваете то, что вам сказали по телевизору. А если б вы были сусликом, вы б все время были на стреме. И были бы счастливы.
Чем меньше человек задействован в рыночной системе, тем он лучше будет себя чувствовать. Хотя пропагандируется все наоборот: участвуй, заботься.
— Что для вас признание в театре?
— Отвечая прямо, я бы хотел, чтобы публика, которая это чувствует или, скажем, которой это нужно, — пришла. А какого-то признания — его даже и нелепо хотеть, потому что мы знаем, что такое на рынке признание. Если речь идет о признании и о желании успеха — это противоречит цели искусства, с моей точки зрения. Но этим занимается человек, а человек воспитывается на рынке, поэтому даже если он кое-что узнает помимо того, что есть товар и покупатель, это не так важно. Другое дело, что кто-то просто по своему типу не совсем комфортно себя чувствует в ситуации рынка. Но он так родился, и у него нет возможности узнать, что мир может быть другим. Тогда есть социальное назначение искусства — информировать. Не участвовать же ни в чем неверно, потому что тогда теряется всяческая возможность подать какой-то сигнал тому, кому это может быть нужно. Человек, который в этом участвует, либо оправдывает это тем, про что я сейчас сказал, либо сам подвергается порче. И тогда ему приходит конец, что мы и наблюдаем все время.