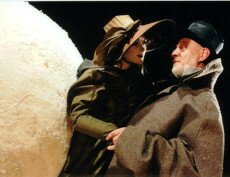— Вы уходили из театра по личным причинам или просто театр стал неинтересен в тот момент?
— Когда папы не стало, я еще год проработал театральным художником и вдруг ощутил, что мне это стало совсем неинтересно. Еще у меня был комплекс, что я не могу картину написать. Начал писать, начал этому учиться. Началась потрясающая жизнь, независимая от коллектива. Ты все делаешь один, даже банкет. Я помню свой первый банкет после выставки — поехал за вином и думал: боже мой, я же никогда сам этого не делал, все организовывал администратор. Я слышал, что в театре появилась антреприза, что деньги стали иметь значение. Раньше они не имели в театре значения, как в церковь ходили.
— Что было, когда вы вернулись в начале 2000-х?
— Свой первый спектакль, «Гамлет» в Театре Станиславского, я поставил в 2003 году. Когда я уходил, дошел до какой-то нервности в отношениях с театром, а потом вернулся, как будто бы повидаться с первой женой в тот момент, когда со второй у меня все было хорошо. С живописью дела шли нормально. Я вернулся, а они еще живут в старой квартире, милые, симпатичные люди. Мы начали почти в шутку работать с Валерой Гаркалиным, потом появился институт, курс, мы с ними стали что-то делать. Но после занятий я ходил писать картины. Это то, что отсохло постепенно.
Нужно придумать, каким языком сказать, например, про любовь. Это чувство захлебывающегося восторга — перед куском деревяшки, перед питьем чая, перед чем угодно
Я тогда не знал контекста, не знал, кто что делает. Вернулся, потому что так сложились обстоятельства. Остался потому, что это оказалось интересным, интереснее, чем я думал. Ну как актеры относятся к художнику… ну разве что платья он им делает. А на режиссера они другими глазами смотрят. Доверие манит. Так как я не обучен режиссуре, то для меня это поле проб и ошибок. Очень азартно. Про общественное я не думал. Если почитать дневники художника Сомова, то он там пишет: я думал о том-то, о том-то, посмотрел за окно, а там какие-то люди бегут, стреляют. В тот день революция случилась, а он был в мыслях о портрете.
— Если раньше вы делали все по наитию, выработалась ли сейчас какая-то система?
— Тогда я боялся: актерам надо все время что-то говорить, а они на тебя смотрят. Что будет, если я не буду знать, что сказать. Постепенно вырабатывается эта схема — как свое принести другому. Поначалу есть только первая мысль, дождешься второй, третьей, потом кого-то зовешь, делишься, собираешь людей. Потом нужно декорацию делать, потом нужно на сцену выйти. Чисто практическая технология, как в слесарном деле. Ты зовешь людей в приключение, твое настроение должно их объединять. Это, наверное, как корабль вести.
— Что важнее — о чем или как?
— Не знаю, по-разному. Папа все время говорил: важно, через что это сделать. Нужно придумать, каким языком сказать, например, про любовь. Если ты выдумал интересную форму, люди посмотрят и скажут: боже мой, мы же ничего не знали про любовь. Любовь, рассказанная языком не Толстого или Бродского, а каким-то своим. Любовь может быть к чему угодно. Это чувство какого-то захлебывающегося восторга — перед куском деревяшки, перед питьем чая, перед чем угодно. Это не обязательно отношения мужчины и женщины.
Когда-то сделал глупость, поверив людям, которые сказали, что мой театр интересен, что в России такого мало. Я обрадовался и живу в этом дурашливом детском ощущении
— Из чего рождается потребность высказаться на ту или иную тему?
— Это происходит достаточно случайно. Может быть, ты что-то делал и осталось недосказанное — и ты думаешь, куда бы это применить. Каждый спектакль — это часть большой серии, у меня она только одна. Тем мало, а сюжетов много. Можно рассказать о том, как родители беспокоятся, когда дети играют в казаков-разбойников. Вроде про детскую игру, а на самом деле это про взросление, про поколения. Хочется заниматься разными сюжетами, а от тем я бы не уходил. Темы — это твои отпечатки пальцев, их нельзя сменить.
— Как вы ощущаете себя внутри театрального контекста?
— Когда-то сделал глупость, поверив людям, которые сказали, что мой театр интересен, что в России такого мало. Я обрадовался и живу в этом дурашливом детском ощущении. Конечно, мне интересно, что происходит вокруг.
Один знакомый сказал после спектакля «Донкий Хот»: «Хеппенингов очень много, хороших тоже, а вот душевных хеппенингов очень мало. У тебя — душевный хеппенинг». Я бы хотел заниматься чем-то таким — сочетать европейскую форму с чувством. В российском театре, может быть, чувства больше, но в такой странной дремучей форме, которая раздражает, уводит тебя от содержания. Сейчас совсем по-другому работает сознание. Когда в твоем кармане лежит айфон, тоненькая штучка, которая выводит тебя в интернет, то есть напрямую в космос, ну какой русский психологический театр? Что — люди приходят домой и едят гречневую кашу с маслом, утирая усы? Душой можно заниматься и в других формах. И постдраматический театр, наверное, может заниматься душой. Нет какого-то единого закона. Когда ты садишься в машину, едущую с огромной скоростью, вряд ли тебе захочется сесть в плюшевое кресло и посмотреть Островского. Рассказать про девушку, кинувшуюся с горы в реку, потому что жизнь невыносима, можно ведь по-разному, исходя из последних известий, из книг, которые ты читаешь, из жизни, которую ты наблюдаешь. Визуальный театр — один из способов разговаривать с людьми о проблемах, которые их интересуют. Церковь основана на каноне, это жанр восприятия вечных истин. Искусство — другая, более подвижная история. Язык меняется, и в этом азарт: ты не знаешь, как разговаривать с незнакомыми людьми сегодня. Ты знаешь, как вчера.
Когда в твоем кармане лежит айфон, который выводит тебя в интернет, то есть напрямую в космос, ну какой русский психологический театр? Что — люди приходят домой и едят гречневую кашу с маслом, утирая усы? Душой можно заниматься и в других формах.
Надо понимать, что в зале сидят люди, которые выключили свои телефоны, которые соединяли их с космосом. Они зачем-то отсоединились от космоса. В 60-е годы об этом речи не было. Люди получали 120 рублей и приходили в театр. Сейчас зачем? Человек зайдет в интернет и за одну секунду узнает, что сказал Ходорковский после освобождения. А что вы скажете в театре?
— Если все меняется, осталось в театре что-то незыблемое?
— Правила поменялись, но осталась игра. Ты как зритель должен быть включен в игру — литературного театра, постдраматического, не важно. Но одно дело поиграть с неандертальцем, другое дело — с человеком, который знает, что это искусство, который много видел, пользуется интернетом. С ним труднее играть. Людям свойственно привыкание, и каждый раз ты думаешь — что же теперь? Тем более люди одни и те же приходят в театр. Смелянский рассказывал, что Станиславский сделал открытие: театр — это когда одна и та же компания актеров и режиссеров разговаривает со своими согражданами о времени, в котором им суждено жить. Описывают свои чувства по отношению ко времени, рассказывая разные истории. Таков был МХАТ, русский репертуарный театр. Вот я в такую игру пытаюсь играть.