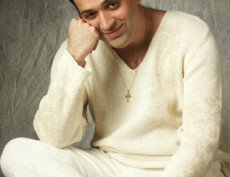— Вы часто говорили в интервью, что вам надоел театр. Почему?
— Я просто пытался выйти из замкнутого, хоть и обширного театрального мира, открыть для себя другие пространства. Сейчас я активно занимаюсь современным искусством и в нем тоже пытаюсь выйти, условно говоря, из города в лес. Это такая игра — открывать новые миры.
— Но для вас же эти два мира — театр и современное искусство — всегда параллельно существовали?
— Это была иллюзия. Столкнувшись с современным искусством на более профессиональном уровне, я понял, что это бескрайний мир. Там своя философия, диалектика. С другой стороны, инструментарий современного искусства в чем-то схож с театральным.
— Театр более архаичен, чем современное искусство?
— Есть такое ощущение. Институция русского театра — это огромная машина: архитектура, люди, которые его обслуживают, зрители. Это колоссальный комплекс вроде военного или медицинского, стратегическая сфера. Я всегда могу выйти из этой системы, театр — не единственный мой инструмент. Для актера ситуация сложнее: ему сложно себя реализовать как‑то иначе. Театр определяет жизнь, поэтому появляется страх, инертность. С другой стороны, современное искусство — это очень молекулярный, разорванный мир. Нет публики, среды, контекста. В России контекст в сфере современного искусства не сложился до сих пор и, видимо, не сложится. Так что театр — это санаторий в психологическом смысле. Если там все как-то складывается, ты чувствуешь себя нужным обществу.
Институция русского театра — это огромная машина: архитектура, люди, которые его обслуживают, зрители. Это колоссальный комплекс вроде военного или медицинского, стратегическая сфера
— Занимаясь современным искусством, вы персонально отвечаете за результат. В театре вы чувствуете себя более зависимым?
— Я рассматриваю театр как социальный проект, где приходится общаться не только с тонкими художниками, но и с обычными людьми, которые выполняют твой заказ. Они рассказывают о своих проблемах, и ты не воспринимаешь это с раздражением. Если ты работаешь в детском саду, ты ж не будешь себя там реализовывать только как художник, манипулировать детьми, чтобы добиться какого-то художественного звучания. Театр для меня стал подпадать под похожую категорию. Трагизм русского театра связан с зависимостью людей, это фанатичная структура, государственные секты. Не то чтобы я испытываю какую-то жалость, но все равно хочется как-то помочь.
— Если вспомнить спектакли времен «В ожидании Годо» и взглянуть на сегодняшние работы, то кажется, что вы двигаетесь от минимализма к избыточности…
— «В ожидании Годо» — это перестроечное время, мы только начинали, и минимализм тогда был не сознательный. Он органично возник, потому что театр был студийным по своей природе. Были студенческие спектакли и попроще — ширма, стул, и все. А «Годо» — это уже была сценография, было движение. Мне даже кажется, что сейчас я гораздо статичнее. Потом возникла история с Андреем Могучим. Бутусов все-таки отчасти базируется на актерской природе, на этюде. Все, что он выстраивает, он берет, как правило, не из головы, а в процессе выращивания грибов на разных грядках. А у Андрея идея первичней, концепт главнее. Форма первична, соответственно, она должна быть насыщенной, изобретательной, потому что это и есть основное «мясо» его спектакля. Потом это дошло до некоего китча — ты пытаешься довести все до гиперзвучания, потому что средние звуки уже неинтересны.
— Как происходит творческий процесс, каков первый импульс?
— Есть разговор с директором, есть конкретный репертуар театра. Появление нового названия находится в жестком контексте этих обстоятельств. Что первичней — трудно сказать. Бывает, приглашают художника и говорят — можете выбрать режиссера для своего проекта. Успешность — это область, скорее, магическая. Но есть важный момент — ты не знаешь, что такое хорошо, но уже знаешь, что такое плохо. Старайся не делать плохо — и получится хорошо. Ты идешь по лесу, и надо идти на свет, а как — не очень ясно. Но как на войне — ты уже не можешь отказаться. Надо брать высоту — а там стреляют.
— Как образ спектакля меняется в процессе его создания?
— Выращивание сопряжено с ошибками. Что значит в театре «попробуем»? Это значит, что надо какое-то количество людей направить по определенному пути. А потом ты понимаешь, что путь неправильный. Когда ты меняешь направление многократно, возникает конфликт. Профессиональный театр требует конкретики. Ты себе в подробностях представляешь, чего ты хочешь независимо от того, возможно это или нет. Пытаешься эту утопию реализовать, и сам путь делания превращает утопию в конкретику.
Театр — это вообще насилие над жизнью. Режиссеры позволяют себе разные способы манипуляции с человеческим материалом. Конечно, это фашистская структура, не побоюсь этого слова, не гуманная
— В каких взаимоотношениях находятся актер и сценография?
— Чтобы актер и текст трансформировались, ты создаешь пространство, создаешь узкую щель — в рай ведь попасть можно только через игольное ушко. Ты должен не обслужить, а помочь. Но, в принципе, это насилие. Театр — это вообще насилие над жизнью. Режиссеры позволяют себе разные способы манипуляции с человеческим материалом. Конечно, это фашистская структура, не побоюсь этого слова, не гуманная.
— Есть ли диалог между вашими спектаклями или каждый проект — это чистый лист?
— У меня сложилось проектное мышление — я стал ощущать свой путь как осмысленное движение. Любой проект — часть этого движения, а не случайная история, возникшая в результате заказа. Конкретный проект — одно из звеньев в цепочке бесконечного утопического проекта.
Традиционно театр базируется на принципе шоу, а шоу это нечто новое каждый раз, публику нужно удивлять. Театр в этом смысле находится в системе общепита. Но если тебе надоедает какая-то тема, ты начинаешь заниматься другой, и если ты используешь предыдущую формулу или старые инструменты, ты не рефлексируешь по этому поводу — ты понимаешь, что делаешь другой продукт. Есть тема повтора, популярная в среде художников: тебе нужно добиться своего звучания, сформулировать свой язык, чтобы тебя никто не перепутал. Но если язык успешен и ты занимаешься его консервацией, то он становится мертвым.
— Как в последнее время изменилась роль художника в театре?
— В профессии художника раньше был кастовый момент, связанный с ремеслом. Сейчас появилось много инструментов, не требующих профессии, — компьютер, фотография. Расширилось поле дизайнеров, практически каждый может выполнять эти функции. С другой стороны, театры — это закрытая институция, куда трудно попасть. При этом в театре есть коммерческий заказ — директора мечтают об успехе, зрителях, о «Золотой Маске». Так театр становится бизнесом, а это значит, что нельзя пробовать. Зачем брать хорошего, но неизвестного художника — это риск. Возник мощный дисбаланс — государство готовит и обучает огромное количество студентов, которые оказываются никому не нужны. Это такой трехголовый дракон, который не понимает, куда он движется.