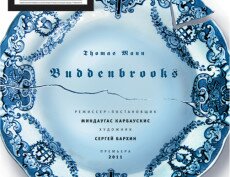— Что для вас были 1990-е годы в театре?
— Для меня 90-е годы — это потеря всей человеческой ориентации. Это время, в котором, мне казалось, театр никому не нужен. Это было очень горько. И навевало мысли о бесполезности жизни собственной. А кроме того, исчезло ощущение фиги в кармане. Одновременно с этим возникал вопрос — а что делать?
В 80-е ответ мне был ясен и он мне нравился, тем более что папа был дружен с Галичем и обаяние этих людей на меня сильно действовало. Но в 90-е, я думаю, человек не изменился, а потерялся. Я нового человека не видел. Мои студенты не просто застали совок, они его впитали не меньше, чем мы. Больше того — я иногда удивляюсь советским прихватам моих сегодняшних студентов. Страхи стали другими: в советские времена тебе делали на голову и при этом уверяли, что посыпают манной небесной, а в новобуржуазные времена тебе делают на голову и при этом говорят — да, привыкай. В советские времена человек как только ощущал свои маленькие права, сразу начинал их отстаивать. Говорят — вот, мол, появилась новая молодежь, которая не ведает кнута и, следовательно, не знает, что такое рабы. Это неправда — они такие же рабы, как и мы, потому что избавление от рабства — это длинная история. Их педагоги рабы, и родители тоже, а времена стали не легче. Формула сегодняшнего времени сказана Салтыковым-Щедриным: «Стоит некто на коленях, а по глазам видно, что бунтует». Просто советское вранье помножилось на новые условия жизни.
Страхи стали другими: в советские времена тебе делали на голову и при этом уверяли, что посыпают манной небесной, а в новобуржуазные времена тебе делают на голову и при этом говорят — да, привыкай
— А как в 90-е жил ваш независимый театр? Что держало на плаву?
— В 90-е мы почти не жили. Начали мы в 1999-м. Никто нам не помогал, кроме депутата Леонида Романкова и покойного Владислава Пази, который делал это из чисто альтруистических соображений. Репетировали мы у них на отшибе и, пока он был жив, понимали, что под защитой. Потом нас немножко потерпели забесплатно и турнули. А какие могут быть претензии? Юридически мы ни на что не имели право. Просто у Пази было большое сердце и оттого, видимо, лопнуло. Я иногда подшучиваю над собой, что подохну в андеграунде. Высоко задирать нос не совсем правильно. То, что мы живем сейчас в такой роскоши, произошло под нашим давлением, но с подачи Комитета. Государство дало нам твердые зарплаты, это кое-что. Нет, нас замечают. Я не готов бросаться камнями в государство — хотя талантливый человек может быть раздавлен государством и отсутствием всякой политики по отношению к нему. А если он не талантлив?
— Расскажите, как сочинялся «На дне».
— Долго и мучительно, дольше, чем что-нибудь. Мне нравилась вещь, и она расходилась на труппу, нравилась она и труппе. По мне, там нет острой социальной ситуации — они все могут уйти из ночлежки. Эта пьеса Горького не столько социальная, сколько философско-абстрактная, поэтому мы себе позволили очень многое в трактовке. Я могу быть необъективен, но мне кажется, что «На дне» — одна из получившихся у нас пьес. Я, пожалуй, «На дне» люблю больше остальных, за исключением недавнего «Ю» Мухиной — это моя юность по ощущению.
В Горьком нам хотелось восстановить правду ситуации — в том виде, в котором я ее чувствовал и видел. Я делал Горького, как я его понимаю, то есть как пьесу про поиски человеком Бога, про Бога, потерявшего человека
А в Горьком нам хотелось восстановить правду ситуации — в том виде, в котором я ее чувствовал и видел. Я делал Горького, как я его понимаю, то есть как пьесу про поиски человеком Бога, про Бога, потерявшего человека. Я беру пьесу, читаю ее, а дальше начинаю вскрывать ситуации так, какими они мне кажутся, так, чтобы меня это волновало и чтоб в каждой ситуации было про что. Самое интересное — контрапункт чего-нибудь с чем-нибудь, я бы так сказал.
Методологически это Станиславский: обострение психологических ситуаций до логического предела. Пафос Станиславского не в эстетике, а в азбуке. До него и после него никто методологии не создал. Брехт, Арто — это все эстетики разных талантливых режиссеров.
— А как изменилось время? Что бы вы сказали про сегодняшний театр — отражает ли он реальность и должен ли?
— Меняются, мне кажется, формы жизни и обстоятельства, а человек не меняется. Сегодня нет ощущения, что театр не нужен. Прошла эпоха гражданской растерянности, люди стали пытаться выплывать и выживать. Хороший театр в любые времена отражает реальность в опосредованных формах. Думаю, что в отдельных спекулятивных проявлениях — да, театр может быть социальным. Но время настолько сложное, что впрямую о нем говорить нельзя. Мною поставленный «На дне» — это и есть реакция на то, что происходило в стране. Я же тоже социальная единица. Я вообще стараюсь не формулировать про что, но творю я из себя и каким-то образом отзываюсь на то, что происходит, даже если не думаю об этом. Думаю, что социальный аспект возникает в результате, а не как цель.